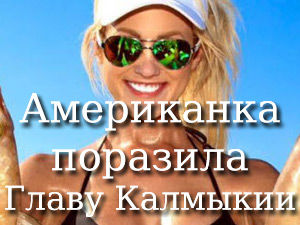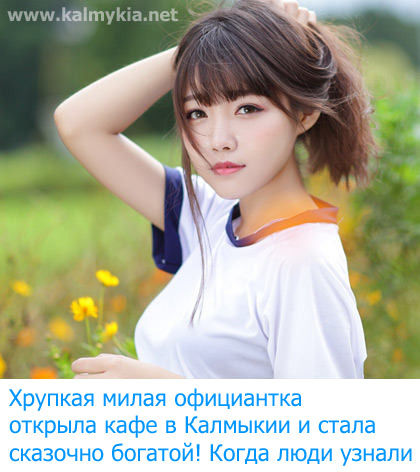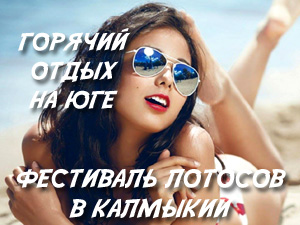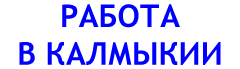Александр Домогаров: Элиста — красивый город

В Калмыкии продолжаются съемки художественного фильма «Старшая жена». Элистинцы получили возможность своими глазами увидеть, как делается большое кино, и с удовольствием приходили на съемочные площадки в те дни, когда группа работала на Восточном рынке в шестом микрорайоне, в Сити-чесе, Золотом хуруле и даже ночью на площади Ленина. Сейчас съемки проходят в Лагани. А в прошлый вторник в редакции «Элистинской панорамы» побывал исполнитель одной из главных ролей, артист театра и кино Александр Домогаров.
ЧЕГО НЕ ПОНЯТЬ ПЫТЛИВОМУ ЧИТАТЕЛЮ
– Александр Юрьевич, как вы освоились в Элисте по такой жаре? Успели акклиматизироваться?
— Я нигде не успеваю акклиматизироваться, потому что полжизни проходит в поездах и самолетах, полжизни где-то еще, а на дом меня не остается совсем, и я только мечтаю, что проведу два дня дома. Поскольку дел накопилось в Москве куча, за эти два дня я ничего не успеваю, хотя уже наметил, что (начинает говорить скороговоркой) прилетаю в два часа, с двух до трех должен взять автомашину, мне ее должны помыть, потом нужно ехать туда, потом сюда, опять туда-сюда, отыграть спектакль, сесть в поезд, приехать в Санкт-Петербург, вечером приехать в Москву, потом сесть в самолет и улететь…

– Оно вообще надо, спросит пытливый читатель? Это осознанный выбор или жизнь так закрутила?
— Пытливому читателю этого не понять. И зачем надо, я никогда никому не смогу объяснить. Это нужно мне, в первую очередь. Иначе я не стал бы заниматься этой профессией. Ездил бы по «Кинотаврам» и всяким тусовочным местам.
– А отчего не ездите? Вот недавно в Каннах фестиваль был…
— Скажу так — я в Каннах бывал, но по делу, с картиной Ежи Хоффмана «Огнем и мечом». Приехал, прошелся по красной дорожке. Был на «Ликах любви», и там тоже была картина. А ехать для того, чтобы просто потусоваться, убить две недели, чтобы о тебе что-то напечатали… Нет.

– Когда вы больше обижаетесь на прессу, когда нагло врут…
— (перебивает) Я не обижаюсь никогда. Просто считаю, что есть славные имена в журналистике, люди, которые обладают определенными моральными качествами, а есть… Почему-то, я это тысячу раз говорил, от врачей мы требуем: «Ты же давал клятву, почему не лечишь?». А журналисты, видимо, никому не клялись. В этой профессии либо есть люди, либо людей нет. В 90 процентах случаев людей нет. Когда мои друзья, а потом уже злейшие враги, работающие в престижных и модных газетах России, печатают всякое.., ну что ж тут сделаешь. Поэтому я всегда за телеинтервью, когда, глядя в глаза, можно услышать интонацию и сложно что-либо прибавить от себя. А вы не там запятую поставили, и — все!
– Казнить нельзя помиловать?
— Точно. Помиловать уже нельзя. Извините, я не очень люблю вашего брата журналиста. Ну, не то что не люблю… В Москве знают — лучше ко мне не подходить. Тема Домогарова закрыта. Так вот меня гикнуло, сказал — дальше будут «собаки». И даже могу набить морду.
– И все-таки, что вас больше всего раздражает, возмущает (если не обижает) — когда нагло врут или когда выкладывают на всеобщее обозрение правдивые, но не предназначенные для широкой публики подробности личной жизни?
— Мне очень хорошо один раз объяснили: когда включена вот эта штука (показывает на диктофон), ты себе не принадлежишь. Поэтому вряд ли среди нашего брата есть настолько тупые, чтобы говорить под запись о заведомо ненужных вещах. Если только я этого сам не захочу. Или преследую определенные цели. Тут у меня броня. «Тигры» и «Пантеры» просто не сравнятся.
НА СЦЕНУ ИДУ ДРАТЬСЯ
– Тогда давайте о приятном. Вам недавно присвоили звание Народного артиста России…
-…и тут же пресса все это опоганила. «Комсомольская правда» написала, что Домогаров сидел, зевая и засыпая, а когда вышел президент, что-то промямлил. На самом деле у Владимира Владимировича изменились глаза, когда он меня увидел. И я один из немногих, кто сказал не заученную фразу «я очень рад, что вы так высоко оценили мой скромный труд», а «спасибо большое», потому что в 43 года получить звание народного артиста — это достойно. Я очень люблю театр, действительно люблю театр, в котором служу, и это звание — не только заслуга, но и ответственность.
– Насколько важно для вас получить признание своих заслуг не только от народа, но и от государства?
— Я вам так скажу — это было бы очень приятно моим маме и папе, которые лежат на Преображенском кладбище в Москве. Мой родной брат, позвонив три дня назад, сказал: «Представляешь, а мы не знали – нам Люба позвонила из Австралии, я тебя поздравляю!». Я говорю: «Да? Что ж, очень хорошо».
– Это спокойствие от самодостаточности?
— От привычки жизни. И понимания, что ты есть на самом деле. Я уже много раз говорил — тысяча двести зрителей в зале. Тысяча двести, на секундочку. А ты один. Пусть не один, есть коллеги, партнеры. Но тысяча двести! И все в твоих силах. Или ты их сломаешь, и они будут слушать, например, стихи Ростана, или… А в зале люди, которые, я так думаю, не все благосклонно относятся к стихам. Тридцать процентов — да, они понимают, они приходят ради этого в зал, а остальные 70… Для них имеет значение только фамилия — Турецкий, «Бандитский Петербург». И заставить эту тысячу двести, ну хорошо, не тысячу двести, восемьсот человек, заставить в конце встать — для меня это как экзамен, который я провожу семь-восемь раз в месяц. Для меня это боль, это драка! Я всегда говорю, что на сцену иду драться. Доказывать, что я не персонаж из телевизора, а человек, который занимается профессией. Я люблю профессию, а не околопрофессиональную фигню! Именно профессию. Да, согласен, иногда не хватает нервов. Я могу быть не в том настроении, чтобы ко мне подходили люди после спектакля и говорили «ай-ай-ай, можно ваш автограф, можно с вами сфотографироваться», — могу нахамить. Слишком устаю за эти четыре часа. Люди не понимают. А ты выходишь после спектакля весь мокрый! Гример берет мою рубашку после первого акта: «Ну да, килограммчика на полтора потяжелела», а у зрителя такое ощущение, что я вышел, как выпорхнул, и пошел дальше с букетом цветов.После таких спектаклей только кажется, что все закончилось. Умылся, вытерся, вышел. А приходишь домой и понимаешь, что заснуть не можешь. И дело не в том, что ты думаешь об образе, о том, как сегодня сыграл, нет. Просто не спится и все.
– И ремесло не выручает?
— (вздыхает) Ремесло — это… (еще раз вздыхает). Я не люблю артистов с «холодным носом». Именно поэтому я преклонялся перед Олегом Ивановичем Борисовым. Ты можешь быть уставший, больной. Какой угодно! Ты понимаешь, что тебя не хватает на сегодня, что тебя нету — и да, включаешь ремесло, но уже через десять минут включается машина, как бы ты этого не хотел. А есть категория артистов, которая только на ремесле и едет. Технику, навык — ремесло, как вы говорите, за 20 лет, поверьте, можно приобрести. И очень страшный период наступает, когда ты понимаешь, что тут (показывает на грудь) — пусто. Такое случается: ты выходишь на сцену и думаешь: все, пусто, не могу сегодня! Ничего не могу, но оно (снова показывает на грудь) живое, оно еще работает, и это видно. Кто-то говорит, что пот на сцене — это неэстетично. Может быть, но я вижу, что актер отдает, чувствую энергетику. И это дорогого стоит.
ЗАТО БУДЕТ, ЧЕМ ИГРАТЬ
— Когда Раневскую просили помочь стать артистом, она говорила — Бог поможет. Вам, кроме Бога, кто-нибудь помогал? Люди или обстоятельства?
— Я знаю одно – помогает все, что с нами происходит в жизни, если мы болеем тем, чем мы занимаемся. Был такой период в жизни, когда я звонил Сашке Балуеву и говорил: «Все! Не мо-гу! Я вешаюсь!». А он мне: «Терпи, зато будет чем играть». Мы забываем какие-то вещи, которые с нами происходят, но наступает момент, когда начинаешь раскручивать ситуацию и думаешь: подожди, что-то похожее было. Это не значит, что на площадке я буду копировать, но ощущения свои могу достать. Эмоции — и помощь, и грузило, которое висит на тебе постоянно.
– Вы служили в трех театрах, скажите, насколько судьбоносным был переход из одной труппы в другую, из второй в третью?
— У меня было три театра. Первым был Малый театр, куда я пришел сразу после училища. Потом призыв в армию, и меня, слава Богу, Михаил Иванович Царев отправил служить в театр Советской Армии. Золотое место для театральной молодежи было! Золотое — это когда артисты служат не в саперных войсках, вы понимаете (улыбается)? Интересно было, когда после училища и года в театре, находясь в армии, ты понимаешь, что такое театр изнутри. Ведь не все артисты знают, как поставить декорацию или повесить кулису. А мы за два года этот театр излазили вдоль и поперек, узнали, что и как делается. Одновременно играя спектакли, делая большие роли. Это был 85-й год и такое золотое сечение — Певцов, Лазарев-младший, Балуев, Меньшиков, Сташков, Ледогоров. Десять лет в театре Советской Армии, как из пушки. А потом переход в театр Моссовета.
– Прижились? Все-таки театры слишком разные…
— Сказать «разные» — это ничего не сказать. Но был еще и резкий уход из театра Советской Армии. Это когда я понял, что сел, очень крепко сел. В театре тоже есть своеобразная иерархическая лестница, на третьем этаже — «народные», они поближе к сцене. Ну, чтобы далеко не ходить. Рядом — заслужённые, приближённые. И я сидел на этом этаже. И это было медленное засыпание. Надо было себя дергать. Я ушел резко, на «Моего бедного Марата». Мы ставили его к дате и думали, что спектакль проживет сезончика два. Спектакль идет до сих пор, и никто его снимать не собирается. Кроме нас.
— Считаете, пора?
— Любой организм, а спектакль — это организм, рождается, живет и умирает. Когда мы его делали, он родился, слава Богу. А есть спектакли, которые выпускают уже мертвыми. Мы отыграли сезон, и, может быть, нам даже где-то свернуло башку, потому что спектакль записали на телевидение, все это увидели, и к нам начали приходить наши коллеги на мастер-классы. Когда его выпускали, было очень тяжело играть вторую часть, там, где герои уже взрослые. Мы все что-то там из себя пыжили, переживали. А сейчас очень тяжело играть начало, играть людей без мыслей, живущих чувствами и не понимающих, что такое война. Да и какая война в 17 лет! У меня отец никогда не вспоминал о фронте, только перед смертью. И это показатель. Когда стало плохо, заболел, тогда и полезли краски. Говорил: «Да, положили мужичков-то». А когда был здоровым, мощным мужиком, начнешь расспрашивать, а он: «Да ну, Сашка, какая война!». И вот спектакль умирает. Он стал такой… тяжелый, что ли.
– Кто должен сказать «хватит»?
— Думаю, сами артисты, потому что театр — это фабрика. Кассы собираются, спектакль идет. Но мы три года назад сняли «Милого друга» при полных аншлагах. Зал битком, люди на люстрах висели! А я сказал — не могу больше, у меня ощущение плесени. Я выхожу на сцену и понимаю, что не хочу. Слава Богу, отношения в театре сложились такие, что меня понимают. Ну, не меня, а суть проблемы.
СНАЧАЛА СНИМИТЕСЬ У РЯЗАНОВА!
– А как в театре относятся к вашей кинематографической параллели?
— Слава Богу, мы нашли понимание.
– Это потому что ваше появление на киноэкране обеспечивает театру устойчивый зрительский интерес?
— Могу сказать одно — я уже заслужил достаточную аудиторию, чтобы, не снимаясь в кино, собирать залы. Но это лишняя подстежка. Сейчас поясню. Для того, чтобы артист набрал определенную корзину впечатлений, его надо выпустить «погулять, свежей травки пощипать». Я вот после «Джекила» (спектакль «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» — от ред.) нормально себя чувствовал, набрал работы, а сейчас начнется сезон, когда будет не до чего. «Нагулявшись и пощипав травки», я понимаю, что с ноября по апрель ничем посторонним не смогу заниматься. Потому что это будет либо здесь, либо там — не в коня корм.
– Говорят, вы страшно популярны в Польше. Какие еще города и страны хотелось бы покорить? Про Голливуд не спрашиваю, наверное, устали отвечать.
— Не хочу я в Голливуд, да и Польша-то возникла только благодаря Хоффману и театру. Это тоже была авантюра, когда завертелась польская линия. Сначала собирались снимать фильм, потом решили все-таки сделать спектакль. Был «Макбет», чистой воды авантюра — уехать на полгода в другую страну и заниматься там спектаклем.
– Вам говорили — ну зачем, может не надо, может, лучше здесь?
— Нет, не говорили. Да я бы никого не послушал. И потом Польша — не край света, я же приезжал играть спектакли.
– А вас не раздражают вопросы про Голливуд? Про то, что всем кажется, что именно там настоящий актерский успех?
— Кому кажется? Читателям?
– Широкой публике. Ну,плох тот солдат, который не мечтает… и далее по тексту. Так, может, плох тот актер, который не мечтает, например, сняться у Спилберга?
— Пускай для начала снимется у Рязанова. А то у нас сделают что-то мало-мальское в кино, и сразу в Голливуд.
– А чем вас «Старшая жена» привлекла?
— Вы знаете, сценарий-то старый. Есть такой замечательный драматург, зовут ее Зоя Кудря. Мы с ней познакомились, когда шла работа над «Колчаком». Я был поражен. Материал очень серьезный, тяжелый, а надо было написать десять серий, начать с Колчака полярного и привести его к расстрелу. И она написала. Я получил во-о-от такое машинописное произведение. Читаю сцену, у меня картинка, читаю дальше — картинка. То есть девушка пишет картинками, при этом перерабатывая такое количество исторического материала, выкапывая такие факты… Не выдумывая из головы! У меня к ней очень трепетное отношение. А сценарий «Старшей жены» я читал, помню, лет пять назад и еще тогда сказал: «Кудря, по всем голливудским параметрам написана история!». Поэтому, когда пошел разговор о съемках, сомнений у меня не было. Другое дело, что мы это уже делали. Ивану Ивановичу Соловову я сразу сказал, что таких персон мы уже играли, ничего нового для себя я не вижу.
– И чем вас заманили?
— Материал хороший. Интересно, что из этого можно слепить. И еще оператор замечательный…
– Партнеры…
— Ну, с Розановой мы не один фунт соли съели.
– В фильме присутствует ярко выраженный восточный колорит, который долгое время не был востребован на широком экране. Это поиск новой натуры?
— Не то чтобы поиск новой натуры, скорее, картинка. Я думаю, что у зрителя не возникнет вопросов, почему на этой картинке присутствует селение, в котором живут Андрей Панин и Ирина Розанова с совершенно определенными лицами. Если возникнет, значит, мы не доработали. В этой картине очень много колорита, и мы шутим, что Национальное географическое общество будет плакать, если мы не продадим его (смеется). Нет, правда, есть очень красивые кадры. И эти степи бескрайние! Но всю эту историю можно спокойно перенести в любую глубинку или в Прибалтику, к примеру, и ничего не изменится.
– Вы снялись в 30-40 картинах, и каждый раз у вас были очень эффектные партнерши. Габриэлла Мариани, например, очень шла к вашим усам и бороде. С Могилевской получился очень убедительный, жизненный дуэт. А еще были такие же точные попадания?
— Были.
– И партнерши, с которыми вы смотритесь органично?
— Я со всеми смотрюсь органично (улыбается).
— А с кем бы хотелось еще побывать в картине?
— Ни с кем.
— Вы, как настоящий мужчина, ищете не лучшего, а нового?
— Я ищу стабильного. А что касается экрана, то я с Кабо уже третью работу начал делать. Я ее убить готов иногда, но мне приятно, когда она так: (изображая голос Ольги Кабо) «Я не могу, Саша, не могу, у меня ничего не получается». «Вешайся, — говорю, — Оля, вешайся, уходи из театра!» (смеется). На самом деле у нас очень теплые, дружеские отношения.
— Кстати, ваша роль в «Графине де Монсоро» — одна из немногих, где вы были с бородой и усами. Вот интересно, они были настоящие?
— Настоящие.
— А еще на какие жертвы вы готовы ради воплощения режиссерского замысла?
— На любые! Когда я снимался у Хоффмана, параллельно шли съемки «Что сказал покойник». Там я блондин, а у пана Ежи — брюнет. И когда через месяц у меня от постоянного перекрашивания волосы начали выпадать пачками, они стали вот такого (показывает на оранжевую салфетку) цвета. И черный не травится, и белый не берет. Но если интересный образ, для картины я могу многое сделать.
Я ПРОЩАЮ.
— Говорят, не только режиссеры вас мучают, сами тоже себя не бережете, трюки без помощи каскадеров делаете?
— Это же интересно! Я же могу!
— А чувство самосохранения?
— Есть же братья-каскадеры, и потом, на всех трюках мастер страхует… Я ж не нас только отморожен, а от случая никто не застрахован. Вот я помню, второй сезон «Турецкого» снимали, мы придумали трюк на машине с переворотом, а режиссеру об этом не сказали. Приехали на съемку, это был мой день рождения. Готовят машину на трюк. Снимаем. Дело происходит на Рижском шоссе. Пятница, люди едут на дачу. А смысл был в том, что Турецкого догоняет черный джип, из него раздается автоматная очередь, и машина летит кувырком. А я Михаила Иосифовича Туманишвили уже пару дней убеждал — вот бы снять это одним планом — машина едет, переворачивается, падает, и из нее выбирается артист. Классно! Ни ножниц, ни склейки! И вот этот знаменательный день настает, я ему говорю: «Сейчас, только кофе допью», а сам к пацанам. Они мне надевают страховку, и тут Туманишвили: «Ты что!!!». А я ему говорю: «Уже все решено», и в машину, проверяю — здесь молоток, на случай, если что-то пойдет не так и придется разбивать стекло, здесь огнетушитель. Считаем, сколько мне надо времени, чтобы отстегнуть специальные ремни, снять перчатки, шлем. Он на все это смотрит. А в это время перегораживают трассу…
— …и вас тихо ненавидят все дачники.
— Так оператору нужен сплошной автомобильный поток! И вот мы тихо поехали, пустили поток. Командуют: «Джип давай!». Пятница. Вечер. Все едут на дачу. И наблюдают, как едет такси, его догоняет черный джип «Чероки», опускается стекло, стрельба, такси летит кувырком! Я потом говорю: «Сейчас люди приедут к себе на дачу и начнут рассказывать — мы видели такое на мосту!». Но это такой адреналин… В Польше на съемках, когда я находился в люльке между двумя конями, они оторвались от ведомого, и мы поехали… Мы ехали вот так (показывает угол крена), была задача — вылезти из люльки и их остановить… Я потом выпивал после этого, и немало. Когда понял, что было. Когда лошади остановились, меня вынули побитого всего и сказали: «У тебя была ситуация, в которой никто, кроме тебя, не смог бы ничего сделать, иначе они бы тебя затоптали». Зато есть что вспомнить, понимаете?
— Не знаю. Скажу так — понимаю, но не разделяю. Хотелось вот о чем спросить — недавно по «Культуре» показывали спектакль «Король Убю» с Калягиным в главной роли. Замечательная постановка, неожиданно новый Калягин… Сомнительным показалось обилие обнаженной натуры и ненормативной лексики. Вы за полную свободу в театре или все-таки за то, что надо держаться в рамках пристойности?
— Театр любой может быть, у театра нет ограничений, я считаю. Другое дело — что я приемлю, а что нет, в какой театр я пойду, а в какой — подумаю. Если я хочу видеть нечто, я должен иметь возможность это увидеть. Если же не хочу чего-то видеть, то тут, как и в ситуации с телевизором, должна быть возможность выбирать.
— Вам приходится много гастролировать. Случалось ли такое, что вкусы провинциальной публики не совпадали со столичной модой? Когда в Москве постановка на «ура» катила, а приехали, скажем, в Саратов — и не идет?
— У нас не такой репертуар, чтобы он где-то катил или не катил. Классические постановки, железобетонные. Что в «Хайде», что в «Марате», что в «Нижинском» (спектакль «Нижинский, сумасшедший Божий клоун»- от ред.) я не преследовал никаких иных задач, кроме «энергетических». Дело в другом — какой зритель к тебе приходит на гастролях. И город Саратов на меня произвел… дикое впечатление. Мы играли «Нижинского» в Театре оперы и балета, в первых рядах сидели своеобразные люди, которые могут позволить себе купить билет за более чем средние деньги. И один, сидя в первом ряду с бутылкой пива, так разочарованно протянул: «Эх, Турецкий!». Ну не то увидел, что хотел! Показывают спектакль про гениального танцовщика, а зачем ему это надо? Он с бутылкой пива пришел на Турецкого посмотреть за три тыщи…
— Коробит?
— Я прощаю. Ну не дано человеку! И никогда не будет да но. Мне жалко. Значит, где-то допущена ошибка. Им самим, или его родителями.
— По поводу Саратова вы определились, а что насчет Элисты?
— Мне нечего сказать. Вот два дня выходных, а я из номера никуда не выхожу. Сижу за компьютером. Да и жарко. Я видел город из окна машины. У меня очень хороший водитель, он мне показал буддийский храм, объяснил, как нужно барабаны крутить. Но Элиста — красивый, интересный город. Я его запомнил.

Анжелика Гурская
Вера Брезгина
Фото Ирины Березовской
«Элистинская панорама», июнь 2007 года
Республика Калмыкия